Дата | Три четверти века, взявшие отсчет 7 ноября 1917 года, стали величайшим уроком для всего человечества
Минувшей весной исполнилось сто лет со дня гибели «Титаника». Век – срок немалый, чтобы досконально изучить все нюансы крупнейшей, но все-таки локальной технической катастрофы. Но и сегодня, спустя столетие, существует по крайней мере пять версий, заслуживающих внимания, в том числе и о сознательном затоплении "Титаника" его владельцами.
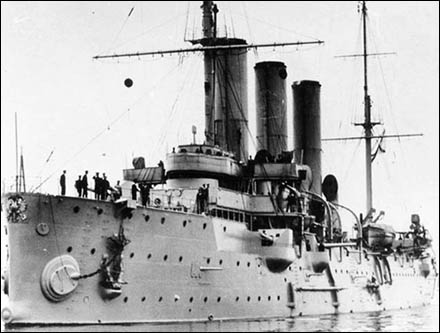
Двадцать один год назад "пошел ко дну" неизмеримо больший "Титаник XX века" - Союз Советских Социалистических Республик. Здесь тоже существует целый букет версий о том, что же произошло с социализмом, почему погибло первое в мире социалистическое государство - детище Великого Октября. Версия о его "сознательном утоплении кликой руководителей-предателей" является весьма и весьма распространенной.
Причины катастрофы социализма надо искать не в том, что когда-то мама родила Горбачева, не только в кабинетах членов Политбюро ЦК КПСС и руководителей других властных структур. Искать следует коренные причины ошибок и просчетов, а не только истоки предательства и зловредную внешнюю силу.
К сожалению, двух десятилетий так и не хватило для того, чтобы люди, считающие себя наследниками дела Великого Октября, обстоятельно объяснились со страной. Не покаялись, к чему призывают правые либералы. Не ушли с арены, чего жаждут "ультра" в Европе и в России. А именно - обстоятельно и честно объяснились, что же все-таки и почему произошло.
Отделить юбилей Октября и его знаменательные даты от "августа-91" невозможно. Одного без другого не существует, и понять их можно только в комплексе. Тот, кто хочет смотреть в будущее, должен объективно видеть прошлое. В противном случае будущего просто не будет. Вернее, оно-то будет, но будет для других.
Эти мысли сегодня имеют особый оттенок: не за горами - вековой юбилей Великого Октября. Было бы нелишне, не дожидаясь 2017 года, кое-что сопоставить, кое о чем задуматься.
И прежде всего возникает вопрос: что же мы строили с 1917 по 1991 год? В каком обществе жили? Почему, несмотря на искреннюю, хотя в чем-то и наивную борьбу Советского Союза за мир и разоружение, нас боялись, а порой и ненавидели? Какой строй потерпел крах в СССР 19 августа 1991 года? Ответить на эти вопросы непросто.
В 1983 году Ю.В.Андропов неожиданно для многих сказал, что мы не знаем того общества, в котором живем. Получалось, что шестьдесят шесть лет страна шла, не зная куда. Мысль Андропова и сегодня вызывает немало возражений, хотя он полностью прав. Мы не избежали той участи, о которой писал Маркс: люди всегда заблуждались по поводу самих себя.
Широко известны ленинские слова об Октябрьском восстании: вчера было рано, завтра будет поздно - власть надо брать сегодня. А что, если и завтра, и послезавтра все еще рано? Что будет тогда?
Об этом еще в 1853 году писал Ф.Энгельс: "Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы, в конце концов, проводить все те вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфическим мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом... нас станут считать не только чудовищами, на это нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже".
В 1917 году в России произошло подобное. Россия пошла по предвиденному Энгельсом пути, не осознавая этого более шестидесяти лет. В конце 1922 начале 1923 года в своих последних работах В.И.Ленин размышлял о сложившейся ситуации. Он несколько раз вспоминал фразу Наполеона: "Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже будет видно". "Вот мы и ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели... детали развития..." - констатировал он в январе 1923г.
"Сначала ввязались, а потом увидели" - это несколько отличается от "широко задуманного и глубоко осмысленного плана", о котором долгое время говорилось в монографиях и учебниках. Большевики ввязались в бой в полной уверенности, что их поддержит пролетариат Западной Европы. Но тот подобной готовности не проявил, и Советская Россия оказалась лицом к лицу с буржуазной Европой. Ленину не суждено было долго командовать серьезным боем. Логика же боя неумолимо вела его преемников к необходимости выбора из двух вариантов: либо красиво умереть, непорочно следуя святым идеалам, либо кроваво победить, скорректировав сам идеал.
Верх взяла вторая линия. Вместе с ней одержала победу и имперская идея, которой до этого веками жила Россия. На расчищенном революцией плацдарме выросла "Красная империя" - великая империя второй половины XX века. Несочетаемые по смыслу понятия социализм и империя - соединились под давлением исторических обстоятельств. Начались "вынужденные опыты" и "скачки", о которых писал Энгельс.
|
Российская империя - это не пирамида с широким демократическим основанием, лежащим на земле. Российская империя - это пирамида, висящая на огромном гвозде, имя которому - вождь. |
Россия три с лишним столетия существовала как империя. Семнадцатый год не ликвидировал империю, а лишь изменил ее социально-классовую основу и господствующую идеологию.
Начиная с Петра Великого, Россия шла на новые территории далеко не всегда со светлой идеей и большим рублем. Она часто шла туда с мощным дубьем. Но, придя, она тратила на содержание новых территорий и поддержания там порядка больше, чем получала взамен.
Это с горечью отметил еще Александр III, говоря, что Сибирь нам обходится дороже, чем приносит дохода. Российское колонизаторство было затратным в отличие от колонизаторства английского, французского, бельгийского или испанского и португальского. В отличие от Османской империи Россия не устанавливала на новых территориях режима фактического рабства, безудержного разграбления богатств, а то и геноцида населения. Рядовые граждане России, не только крестьянство, но и другие сословия и слои, не принадлежащие к элите, мало что получали в материальном плане от того, что империя шла все дальше на Восток и на Юг.
Именно это, а не отсутствие в 1917 году демократии в самодержавной монархии, и бросило в первую очередь на улицу миллионы людей. Они содержали империю, не получая от нее почти ничего. Рядовые подданные Российской империи, жившие в исконных русских губерниях, не были богаче и свободнее, чем те, кто жил на вновь приобретенных территориях.
Европа выросла на костях туземцев колоний. Российская империя росла на костях собственных крестьян. Чего же удивляться, что в 1917 году крестьяне пошли вразнос и громили помещичьи усадьбы, а заодно не только дворян, но и тех, кто казался им дворянами по культуре и одежде.
Повторим еще раз, что Советский Союз объективно оказался, в конце концов, империей. Но в том и проблема, что Советский Союз в значительной степени был империей наоборот, где образующая нация несла на себе все тяготы и лишения, не имея достаточно весомых преимуществ.
С конца 20-х годов в СССР социализм в его исходном октябрьском понимании не строился. Идея мировой пролетарской революции оказалась несостоятельной. Советский Союз остался один на один с капиталистическим окружением.
После всех дебатов и эксцессов курс был взят не на мировой социализм как условие выживания, а на возрождение Великой Державы, на укрепление государства и государственности по всем линиям. Только это могло позволить стране выжить.
Сталин великолепно понимал, что социалистической империи не может быть по определению, но он понимал и то, что снятие лозунга строительства социализма в одной стране погубит уже не только социализм, а, прежде всего, саму страну. Он пожертвовал ленинским поколением коммунистов-интернационалистов и тем социализмом, на знамени которого было написано: "... свободное развитие каждого является условием свободного развития всех" во имя сохранения и возрождения Великой России. В этом его заслуга, его трагедия и преступление, а вместе с ним трагедия страны, народа и социализма как идеи, теории и практики.
В ходе полемики о строительстве социализма в одной стране Троцкий произнес фразу, которую до него никто не решался высказать вслух, хотя многие это понимали: "Если перед нами не гибнущий, а продолжающий развиваться капитализм, то значит, мы пришли рано". Это уже начинала понимать вся борющаяся между собой головка большевиков. Но Сталин шел от этого к империи — Великой России, а Троцкий к империи — плацдарму мирового социализма.
|
Троцкий считал, что хищники-приватизаторы и чиновники-коррупционеры вырастут из детей сталинских функционеров. На практике же дело дедов оплевали внуки. |
В отличие от Троцкого, для которого мировая революция была целью, а Советская Россия средством ее достижения, для Сталина мировая революция, Коминтерн и все мировое коммунистическое движение были всего лишь средством укрепления тылов СССР как нового образца Великой России.
Сталин понимал, что впереди его ждет мировая война, и готовился к ней, стремясь избежать сражений на двух фронтах. Троцкий ожидал мировую революцию и полагал, что чем больше возникнет ее фронтов и очагов, тем успешнее будет дело мирового пролетариата.
Троцкий, говоря, что отстояв себя в военном и государственном отношении, мы к строительству социализма еще и не приступили, всего лишь отказывался называть то, что рождалось в СССР, социализмом. Сталин же фактически считал, что то, что построим, то и надо называть социализмом, ибо, если мы заявим, что социализма в одной стране построить нельзя, то нас, естественно, спросят: "Зачем же вы, милые, взяли власть в 1917 году?" Думается, что именно в соединении империи и социализма, сочетании несочетаемого состоит одна из главных проблем всего советского периода.
Идея империи, заменившая утраченную перспективу скорой мировой пролетарской революции, означала коренной пересмотр взглядов на многие исходные положения К.Маркса, Ф.Энгельса, да и самой РКП(б), которые под руководством В.И.Ленина были выработаны до 1922 года.
Время ставило новые задачи, о которых классики порой не упоминали. Уловив это раньше и тоньше других, И.В.Сталин ни разу об этом нигде не сказал открыто. Более того, все дискуссии о возможности победы социализма в одной стране, благодаря именно Сталину, свелись по сути дела к тому, кто лучше и полнее прочитал Ленина, кто правильнее понял Энгельса и т.д. и т.п.
В ход шли даже такие аргументы, как на каком языке была впервые опубликована та или иная работа В.И.Ленина, кому она была адресована - пролетариату России или пролетариату той страны, на языке которой работа была опубликована.
Преемники Ленина во многом уподобились апостолам, спорившим, кто лучше понял заветы Учителя и Святое писание. Эти споры в значительной мере носили схоластический характер. Произошла подмена тезиса, причем фактически на весь советский период. Спорить по поводу взглядов К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина на существо проблемы и анализировать практику социалистического строительства в реалиях конкретно-исторического периода - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Реальный же вопрос, чем социализм осажденной крепости отличается от социализма международного товарищеского сотрудничества, четко и внятно так и не был поставлен. Да и вообще, что такое социализм осажденной крепости? Согласуется ли он с важнейшими марксовыми представлениями? Маркс и Энгельс не предполагали, что социалистическая революция произойдет далеко не в самой передовой полубуржуазной стране и все свои построения вели в расчете на США, Англию, Францию и Германию. В.И. Ленин же исходил из того, что почин России подхватит Европа, и не рассчитывал на длительное противостояние двух систем.
Конечно, сегодня после всех потрясений многое видится гораздо яснее. Это вполне естественно. Однако и до 1917 года были взгляды и идеи, которые бы стоило вспомнить в 20-е годы. Вспомнить как предостережение. Взять хотя бы многие идеи Л.А.Богданова. Еще в 1908 году он в весьма своеобразной форме, в научно-фантастическом романе "Красная звезда", поставил вопрос о судьбах социализма в капиталистическом окружении.
Один из героев романа, марсианский социалист Стэрни в споре с оппонентами так рисовал перспективу возможной скорой социалистической революции на Земле: "...Отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников... Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины с неизбежным последствием - варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм".
Но именно этот аспект: какой социализм можно построить в капиталистическом окружении, полностью ушел из дискуссий 20-х годов. Какие деформации привнесет в социализм необходимость милитаризации экономики и всей общественной жизни, как скажется на партии метод боевых приказов в качестве принципа партийного руководства?
Жизнь вносила огромные коррективы в облик социализма. Оказавшись один на один с антикоммунистическим буржуазным окружением, СССР уже объективно не мог строить социализм по Марксу, который исходил не из противостояния социализма и капитализма, а из объединения усилий передовых стран в международном товарищеском сотрудничестве на базе социалистического строительства.
Александра Богданова волновало, будет ли подобный социализм "нашим". Четверть века спустя все более и более утверждалась мысль, что это и есть образцовый социализм, единственно возможный и самый научный. Мысль о том, что кто-то сможет сделать лучше, как-то не возникала. Отсюда пошли многие достаточно серьезные проблемы, в том числе и уверенность, что СССР является лидером мирового социального и общественного прогресса, а советский рабочий класс олицетворяет собой эталон будущего гегемона мирового социализма.
Со второй половины 20-х годов в практике строительства нового общества очень многое было упрощено. Людям, взявшимся созидать то, что никто в жизни не видел, многое казалось гораздо проще, чем это было на самом деле. Сталин был большим мастером упрощений и этим был близок и понятен массам. Не случайно студенты 40-50-х годов дружно говорили, что Сталина читать намного легче, чем Маркса, Энгельса и Ленина, что у Сталина все намного яснее и понятнее.
Еще в заключительном слове по Политотчету ЦК ВКП(б) XVI съезду Сталин заявил: "Ясно, что мы уже вышли из переходного периода в старом его смысле, вступив в период прямого и развернутого социалистического строительства по всему фронту. Ясно, что мы уже вступили в период социализма, ибо социалистический сектор держит теперь в руках все хозяйственные рычаги всего народного хозяйства, хотя до построения социалистического общества и уничтожения классовых различий еще далеко".
Через полгода Сталин произнес ставшие знаменитыми слова: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут".
Так все-таки, "мы вступили в период социализма" или мы "отстали от передовых стран на 50-100 лет?" Можно ли вступить в следующую формацию, отставая от предшествующей на 100 лет? Конечно, героическим энтузиастам 20-х - 30-х очень хотелось как можно скорее решить стоящие перед страной задачи, увидеть при жизни победу социализма. В 60-е годы другим "энтузиастам" захотелось при жизни нынешнего поколения увидеть коммунизм.
Можно по-разному относиться к тому фиаско с коммунизмом, которое потерпело "марксистское руководство" СССР с провозглашением грядущего коммунизма к 1980 году. Но Хрущев, хотя и был еще реформатором той мамы, всего-навсего следовал идеям XVIII съезда ВКП(б) о вступлении СССР в период непосредственного строительства коммунизма.
Нельзя ставить ему в вину и вывод XXI съезда КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР. И здесь он шел в русле теории Сталина, согласно которой окончательная победа социализма в СССР связывается с внешним фактором, определяется международной обстановкой и прежде всего наличием или отсутствием непосредственно военной угрозы.
К концу 50-х годов руководство СССР исходило из того, что фатальной неизбежности войны уже нет, что победителя в ядерной войне просто не будет.
Хрущев и его окружение были сыновьями своего времени. Они крепко-накрепко усвоили, что сомневаться в победе социализма в одной стране - значит следовать идеям троцкизма. Недооценка несокрушимой мощи советского социализма и его безграничных возможностей - гоже троцкизм и даже больше: троцкистское маловерие в созидательные способности советского народа, в его непоколебимую верность социализму и в безграничную любовь к ленинской Коммунистической партии.
Теория социализма в одной стране вела к признанию возможности победы в одной стране и коммунизма. Эта теория полностью вытекала из формационных идей Сталина. Поэтому глубоко ошибочно считать Хрущева в противовес Сталину троцкистом, как это порой делают. Троцкий считал, что в одной стране нельзя построить даже социализма, а не то, что коммунизм.
Хрущев не только не троцкист, он не марксист, не маоист, не дарвинист и не вейсманист-морганист, ибо он не знал ни того, ни другого, ни третьего. Он был примитивным сталинистом, имевшим больше общего с вульгарным материализмом и субъективным идеализмом.
В сложнейших условиях становления нового общества противоречия между реальным уровнем развития производительных сил в СССР и характером производственных отношений, свойственных социализму, оказались неразрешенными.
Сложились существенные диспропорции и разрывы между производством и потреблением, между темпами хозяйственного развития и социального обустройства. между базисом и надстройкой, между декларируемой и существующей в обществе моралью, между интересами государства и общества, общества и личности. Горбачевщина пришла из этих разрывов. Сами же разрывы породили не Горбачев, не Брежнев и даже не Хрущев.
Породила эти разрывы необходимость строить социализм сверхударными темпами на докапиталистической основе в буржуазном окружении. Эта необходимость усугублялась требованием ведения борьбы на двух направлениях: защиты идейных и социальных ценностей социализма и отстаивания геополитических интересов, территориальных и военно-политических завоеваний империи. Далеко не всегда борьба на этих направлениях совпадала по смыслу и содержанию.
Российская империя возрождалась в СССР со всеми своими противоречиями и родимыми пятнами. Как и при монархии, эта империя больше тратила сил на поддержание своего существования, чем на содержание своих подданных. Не грабя народы, оказавшиеся в сфере своего влияния (в 50-е годы от Берлина до Пекина), не впрыскивая в свою экономику получаемые даром материальные ресурсы, Советская империя, как и Царская, могла существовать только за счет того, что ее собственный народ жил хуже, чем народы Западной Европы, питавшиеся сливками заморских колоний. Вот в этой плоскости и надо искать те основные причины, которые дважды в XX веке вывели на улицу миллионы людей.
Империя породила уже не антиимперскую, а антигосударственную стихию. Так было в 1917 году, когда вслед за монархией чуть было не рухнула сама Россия. Так получилось в 90-е. Могущество страны в глазах многих перестало быть жизненной ценностью, а оставалось лишь ценностью идейно-политической. Победители во Второй мировой войне и освободители Европы жили хуже побежденных и освобожденных. Они жили несравненно лучше, чем в 40-50 годы, но другие жили еще лучше. Кубинцы, вьетнамцы, ангольцы и другие "братья", идущие по пути социалистической ориентации за счет помощи СССР, стали все больше и больше раздражать как дармоеды и прилипалы.
Коллективная память народа хорошо помнила огромные потери и издержки: людские, материальные, нравственные, которые понесла Россия, чтобы Советская империя стала сверхдержавой. Помнила и торжественно провозглашенное: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" Колоссальная цена, заплаченная за величие, в итоге дала всего лишь средний по мировым меркам уровень достатка и обустройства жизни. Империя вновь надорвалась экономически. Все остальное — следствие.
Затратная империя 70-80-х, представляющая соединение командной, милитаризованной экономики, административно=бюрократического регламентирования всех сфер жизни общества и господствующих в массах потребительски-мещанских представлений о социализме и коммунизме, рухнула столь же стремительно, как и империя 17-го.
И понадобились десятилетия, чтобы идея возрождения Великой России перестала казаться ретроградской. Дело осталось за "малым" — определиться с тем, что понимать под Великой Державой в XXI веке, а самое главное, кому платить сегодня за завтрашнее величие. Это основное. Именно здесь расходятся мнения. Миллионы людей считают, что платить за это будущее величие не худо бы олигархам и тем, у кого миллионы. Те же, у кого миллионы, считают, что расплачиваться нужно тем миллионам людей, у которых миллионов нет.
|
Тот, кто хочет смотреть в будущее, должен объективно видеть прошлое. В противном случае будущего не будет. Вернее, оно-то будет, но будет для других. |
Не будем себя обманывать. Сегодня мы в "недокапитализме". У нас нет не то что капитализма XXI века, у нас во многом нет его и конца XIX века.
Социалистическое наследство проедено и прожито. Но вопрос первоначального капиталистического накопления до конца так и не решен. За чей счет строить современный, высокоразвитый капитализм? За чей счет идти ускоренными темпами, через модернизацию к Великой Державе? На первый взгляд, ответ очень простой: за счет тех, кому нужен капитализм в России. А кому он нужен? А если нужен, то какой? Мировая история не знает, чтобы основы любого строя создавались за счет господствующего класса.
В начале второго десятилетия XXI века мы подошли к рубежу, на котором надо дать ответ: во имя чего работают миллионы людей в России? Что дала обществу, стране перестройка как буржуазная реставрация? Одно ясно всем: она дала гигантское социальное расслоение, которое не может не вызывать тревоги.
В XIX веке многие верные сыны России из правящих слоев с тревогой и горечью писали, что в России не один, а два народа, что крестьянство воспринимает дворян как иноземцев по языку и платью, по культуре и бытовым привычкам.
Александр Куприн в рассказе "Попрыгунья-стрекоза" мудро предупреждал, что придет, не дай Бог, то время, когда народ скажет: "Ты все пела — это дело... так поди-ка попляши".
Сегодня мы вновь имеем две России — Россию куршавельскую, Россию роскошных дворцов и Россию, за счет труда которой все это взято на халяву. Русский мужик велик терпением. Однако Куприн недаром вспомнил крыловское "так поди-ка попляши". Империи в России оканчивались подобными плясками. Когда кровавыми, когда не очень. В XX веке Россия "плясала" дважды. XXI век вступил во второе десятилетие..
Валерий Соляник
Источник: газета "Коммуна" N165 (25993), 07.11.2012г.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2012