 |
22.03.13
Земляки. О скворушке-Егорушке и золотом кузнечике
 | | Лидия Титова. | Ее книги для детей обязательно должны быть переизданы. Это нужно и ребятам, и их родителям
Виктор СИЛИН
г.Острогожск, Воронежская область
Жила она ближе к окраине Острогожска, которую испокон века называли Торговицей. Это оттого, что здешний люд больше занимался огородничеством, и все, что вырастало на левадах, везли на базар.
Так, огородами и торговлей с них и жили.
Небогато.
Но концы с концами как-то все-таки сводили.
По-уличному ее звали не иначе как Лида Жандариха. Хотя на самом деле она – Лидия Михайловна Титова.
Почему такое прозвище у нее было - толком никто не мог объяснить.
Титову знали многие, в том числе и моя бабушка. Так она считала, что в роду у Лиды кто-то был из жандармов: «Это так слово "жандарм» переиначили, - говорила бабушка. - Жардариха да Жандариха…"
А вот старшая дочь Титовой, Александра Федоровна Болдырева, - иного мнения: "Жандармов у нас в роду никогда не было. А наслышана я вот о какой истории. Бабушка моя, Мария Павловна, в молодости жила в прислугах у местного богатея. И будто бы от него родила мою маму. А фамилия же у него вроде бы была Жандармов. От этого и пошло прозвище. Но как все было на самом деле - точно не знаю..."
Лидию Михайловну я видел, по крайней мере, три раза в неделю - по базарным дням. Жили мы если не по соседству, - она в переулке Садовом (раньше он назывался Ударный), а мы на улице Садовой, - то недалеко друг от друга. Степенная, грузная, всегда чисто одетая, даже с некоторым шиком, повязанная легким газовым платочком, из-под которого выбивалась прядь пышных седоватых волос, в руках она обычно несла большую, продолговатой формы, корзину.
Иногда, по воскресеньям, подходила к моей бабушке, сидевшей возле дома на лавочке. И завязывался простецкий разговор: о цене на морковь и капусту, о том, что квашеные бураки - их квасят только в Острогожске и с ними варят борщ - на тот день оказались не в ходу, а в молочном ряду было не протолкнуться от продавцов творога, сметаны, квашенки и молока. "Отел пошел, - объясняла Титова, - да на весенней траве коровы пасутся, вот и молока - хоть залейся".
Когда разговор о хозяйских делах иссякал, то переходили на литературную тему.
- Пишешь, Лида? - спрашивала Титову моя бабушка.
- Пишу. Прямо мне Божье наказание: как кто-то постоянно на ухо нашептывает строки. Я уж и уши затыкаю - а все равно никуда не деться. Беда, да и только.
- Нет, Лида, - это Божья благодать.
Не каждому такое дано - к слову быть приставленным. Вот я пятый раз "Анну Каренину" перечитываю - а как будто в первый раз. Это же какой надо силой слово наделить, чтоб оно не старилось и не увядало!
Острогожский журналист и краевед Илья Яковлевич Польский, представляя читателям районной газеты Лидию Михайловну Титову, так писал: "В тихом Садовом переулке стоит непримечательный домик, такой, как все. Живет в нем шестидесятилетняя Лидия Михайловна Титова - домашняя хозяйка, пенсионерка. Давным-давно к этому домику проложена тропка со всего переулка и соседних улиц. Окрестные ребятишки знают, что бабушка Лида сочиняет сказки и стихи, гурьбой идут к ней".
Побывал и я у Титовой.
В седьмом классе мне поручили подготовить для школьной стенгазеты материал о Титовой. В тот момент у нее только-только (это был 1968 год) 150-тысячным тиражом вышла в свет первая книжка "Скворушка-Егорушка", и Лидия Михайловна оказалась, что называется, на гребне признания.
Домик в два окошка со ставеньками, двускатная железная крыша, тесовая калитка, а в окошке виднеется красная герань. Во дворе - крытое просторное крыльцо, от дождей и непогоды бревна и доски стали серо-черными и растрескались. А рядом - та самая яблоня, о которой все тот же Илья Польский, "открывший" для земляков Лидию Михайловну, вспоминал: "Рядом с крылечком - огромная яблоня. Подобно пушкинскому дубу, яблоня стала местом, у которого, затаив дыхание, малыши слушали рассказы бабушки Лиды о птицах, цветах, зверятах и о многом другом. Сочинять Лидия Михайловна стала давно. У нее была большая семья (пятеро детей. - В.С.), дети часто приставали к матери: "Расскажи сказку!" И она сочиняла сперва для своих детей, а потом и в тетради стала записывать. Года четыре назад Лидия Михайловна отважилась и принесла несколько своих стихотворений в редакцию "Новой жизни". Понравились. Напечатали. Так читатели узнали о самородке - детском поэте, живущем в нашем городе".
Сама же Лидия Михайловна так рассказывала о себе: "Когда я была маленькой, лет пяти, кажется, слышала, как поют цветы, деревья, ручей. Каждый цветок пел по-своему. А я, дома уже, пела эту песенку маме. Для меня песни цветов, разговор зверюшек - это музыка, и я ее слышу. Вся природа для меня - одушевленная, все в ней звучит. Если бы была возможность учиться (Титова окончила четыре класса . - В.С. ), то стала бы композитором. Потом выросла, вышла замуж, пошли свои дети. Стихи приходили ко мне сами собой. Бывало, мои ребятишки скажут: "Мама, сочини стишок!.." И я им тут же сочиняла что-нибудь радостное, веселое. Без стихов и сейчас не живу, хотя никогда не думала, что их можно печатать в книжке. Если настроение хорошее, то я пою, да еще и пританцовываю маленько, а если печаль, то и песни печальные получаются. Жизнь у меня сложилась трудная: детей было много, муж долго болел... Ухаживала за ним, как за маленьким ребенком. А музыку все-таки слушала всегда, всю жизнь. Цветут ли яблони, шелестят ли деревья, а я слышу их музыку..."
И с этой музыкой приходили рифмованные слова, порой самые невероятные, как, например, "Небылица":
На коне комар несется,
На лугу паук пасется,
На зеленой ветке
Баран сосет конфетки.
Коза со стрекозятами
Порхает в синеве,
А стрекоза с козлятами
Гуляет по траве.
Божие коровки
Сохнут на веревке.
Чтоб они не убежали,
Их прищепками прижали.
С комаром беда случилась:
Воробей склевал коня.
Вот такая получилась
Небылица у меня. Старшая дочь Титовой, Александра Федоровна, рассказывает:
- Жили мы скудно, можно сказать, бедно. Отец наш, Федор Павлович, родился в год первой русской революции - в 1905 году, а мама на три года была его моложе. Отец работал в охране на швейной фабрике, тяжелый труд ему был противопоказан - он болел туберкулезом. А мама - домохозяйка: нас ведь целая орава, мал мала меньше - братья Николай и Евгений, сестры Тамара и Люба, да отец хворый - какая уж тут работа на производстве могла быть? Огород - в тридцать соток: половина клубникой засажена, а половина - картошкой. Корова была и коза. А еще на старой-престарой швейной машинке "Зингер" мама шила на толкучку из старья телогрейки.
Мама как-то играючи с хозяйством управлялась. Но стоило мне принести из школьной библиотеки какую-нибудь книгу, она тут же бросала все дела и принималась за чтение. Отец - тихий и скромный, его и не слышно было, мама, наоборот, шумливая, взрывная, но быстро отходила. Она была очень добродушная. И оптимистка, никогда не теряла присутствия духа.
И Александра Федоровна вспомнила, как в послевоенную голодную пору они с матерью пошли в лес собирать дикие груши (такие вот удивительные здешние окрестные леса: растут и дички яблони, груши, много терна). И тут неизвестно откуда взялся объездчик. Он буквально набросился на них, отнял мешки с собранными грушами, наорал, отматерил, благо, хоть кнутом не исполосовал. Так и вернулись они домой ни с чем, налегке. "А утром мама уже читала соседям стихи о том, что с нами произошло. И все покатывались со смеху - так она все представила в юмористическом свете".
Русская печка, обмазанная белой глиной, занимала чуть ли не полкомнаты. На лежанке сплошь рассыпаны зерна кукурузы. Бросит туда ребятня полушубок, заберется зимним стылым вечером и слушает мамины сказки и стихи.
- Мне они очень нравились, - продолжает Александра Федоровна. - Я их много наизусть знала. И на Новый год решила кое-что из написанного мамой прочитать в школе на утреннике. А потом засомневалась: да меня одноклассники засмеют, скажут, что настоящие стихи - это те, что в книгах и журналах напечатаны. А это разве стихи?! И не стала их декламировать. Глупая была... До сих пор помню то новогоднее стихотворение.
Из лесу вышел груженый обоз -
Это подарки везет Дед Мороз.
Тут были елки, игрушки и книжки -
К Новому году получат детишки.
Птиц говорящих я в клетках везу,
Пусть детям расскажут
про нашу страну:
"Где ни летали, где ни бывали,
Лучше России мы не нашли".
Будут на елке они распевать,
Я с ребятишками буду плясать.
Лошадок в санки свои запрягу,
Детишек кататься я в них повезу. В войну их чуть было всех не поубивали. А случилось вот что. Острогожск захватили летом сорок второго. Были здесь и немцы, и мадьяры, и итальянцы. И повадились мадьяры собираться в их домишко. Разложат на сундуке закуску, а посредине - бутыль самогона.
Как-то не досчитались они куска хлеба, гвалт подняли и за грудки: дескать, вы украли хлеб, больше некому. Но когда разобрались, оказалось, что краюха завалилась за сундук.
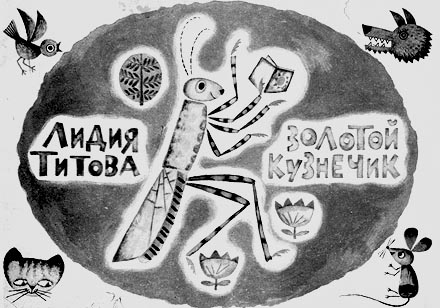
Обложка второй книги Лидии Титовой.
Три человека сыграли неоценимую роль в литературной судьбе Лидии Титовой. Это, как я уже говорил, журналист Илья Польский и два других писателя - прозаик Гавриил Троепольский и поэт Виктор Поляков.
Много лет прожив в Острогожске, а потом перейдя на профположение в писательстве, Гавриил Николаевич перебрался в Воронеж. Но связи с местной литературной группой, из которой он, собственно, и вышел, не прерывал. Ежемесячно приезжал на заседания литгруппы и был здесь "за главного".
Впоследствии он вспоминал: "На занятия литгруппы Титова приходила не всегда. Мне кажется, происходило подобное от того, что она стеснялась своей нешибкой грамотности. А может, еще и потому, что была очень скромной, лишенной всяких амбиций. Вот так получилось: внешне неприметный, а по сути - очень содержательный человек. Мне нравились стихи Титовой, готовил их к печати, иногда безжалостно правил. Но она не обижалась и прислушивалась к моим советам. Все это происходило в Острогожске, а вот книжку ее увидел в Воронеже, когда переехал сюда жить".
Виктор же Михайлович Поляков, поэт талантливый и пришедший в литературу непростым путем - он много лет проработал в органах железнодорожной милиции, в институтской многотиражной газете, - как никто другой понимал, насколько важна помощь и поддержка таким вот поэтам "от сохи", как Лидия Титова, но бесспорно одаренным людям. Поэтому он сразу же согласился стать редактором ее обоих сборников - и первого "Скворушка-Егорушка", и второго - "Золотой кузнечик". Но прежде, уже подготовив сборник, Поляков решил с рукописью пройтись по детским садам, почитать стихи Титовой дошколятам, что называется, на непосредственном детском восприятии проверить их.
Другая замечательная острогожская поэтесса Инесса Куликова рассказывала мне:
"Однажды я пришла в детсад N3 за своей дочкой, а воспитательница прямо с порога огорошила. Оказывается, в тот день приходил к ним поэт Виктор Поляков. Собрал он вокруг себя ребятишек и стал читать стихи, как сказала воспитательница, "какой-то бабушки с Торговицы". Дети слушали затаив дыхание, а когда стихи иссякли, - захлопали в ладоши: так им понравились поэтические строчки. Потом, когда книжка "Скворушка-Егорушка" вышла в свет, кто-то из родителей принес ее в детсад, и ребятишки тут же выучили стихи, а потом читали их на всех утренниках".
...Умирала Лидия Михайловна Титова очень тяжело. С кровати почти не вставала, все металась, словно в бреду: "Это мне такое наказание за страсть к стихам. Видно, небогоугодное это дело". Позвала старшую дочь и не терпящим возражения тоном приказала сжечь уже подготовленную к печати рукопись третьей книги. "Мне ничего не оставалось, как на глазах у матери поджечь стопку листков. Но кое-что я все-таки утаила и сохранила. Есть и сказки, есть и стихи".
Лидия Титова и по жизни, и по таланту была сродни шведской сказочнице Астрид Линдгрен. С одной только разницей: шведы записали свою сказочницу в классики, а мы, русские, даже забыли, что была у нас такая самобытная поэтесса из простого народа.
Источник: газета "Коммуна" N 39 (26061), 22.03.2013г.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2013
|