 |
07.05.14
Страницы неизданной книги. Поэты и писатели, краеведы и издатели
Его редактором был Иван Бунин
Виктор Силин
(Продолжение. Начало в N18)
В своей книге «Летописцы из "Коммуны» корреспонденту губернской газеты Льву Марковичу Василевскому я смог уделить всего лишь пять с половиной строк. Сказано, что он пришел в редакцию на место Бориса Бобылева (это происходило в 1918 году), что по профессии он врач, а писал о событиях культурной жизни Воронежа, заметки о книгах, о новых журнальных публикациях и печатал свои стихи.
Вот и все.
Больше я никакой информацией не располагал.
Прошло три года, поиск продолжался, и из самых разных источников начала складываться спрятанная доселе в архивах и в подшивках старых газет и журналов – и не только воронежских - биография некогда известного журналиста, поэта, писателя, драматурга, литературного критика и переводчика Льва Василевского.
Он родился в 1874 году, в Полтаве, в семье ремесленников. Писать стихи начал в семнадцать лет. Их одобрил и поддержал начинающего автора В.Г.Короленко. Собственно, и политические взгляды молодого поэта оказались очень близки взглядам самого Короленко: он так же, как и мэтр русской литературы, был революционным демократом по убеждениям.
Удивительная деталь: стихи Льва Василевского попали и в руки нашего земляка Ивана Алексеевича Бунина (на ту пору он жил в Полтаве, это 90-е годы девятнадцатого века). И он дает "добро" на публикацию. Более того, самолично берется "довести их до ума", редактирует и, как бы сказали сейчас, продвигает к публикации.
Дочь писателя, доктор медицинских наук (пошла по первой отцовской профессии) Наталья Львовна, разбирая семейный архив, обнаружила рукописный журнал Льва Марковича Василевского "В часы досуга", относящийся к 1891-1897 годам, письма, книги с дарственными надписями известных писателей. Среди них оказалась и бунинская повесть "Деревня", вышедшая в "Московском книгоиздательстве" в 1910 году. На ней Иван Алексеевич Бунин собственноручно сделал надпись: "Льву Марковичу Василевскому в знак прекрасного расположения и уважения. Ив.Бунин".
…Сначала брат Ивана Алексеевича Бунина, Юлий, приехал на место работы и жительства в Полтаву, а потом и сам писатель. Здесь он прожил с 1891 по 1897 годы, где, как разыскали тамошние краеведы, снимал комнату в доме Волошиных. Довольно быстро он сходится здесь с местной творческой молодежью, среди которых оказался и Лев Василевский.
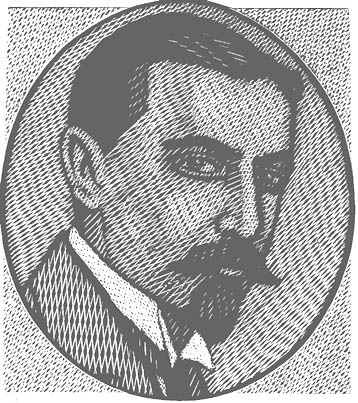
И.А.Бунин. Художник Мисабих Ахунов
Молодые полтавские поэты знали Бунина-литератора, относились к нему с глубоким уважением, считались с его мнением.
В ту пору Бунин как раз и знакомится со стихами Василевского, читает их внимательно, синим карандашом делает пометки на полях отдельных стихотворений. Первая такая пометка появилась в тексте стихотворения "Аккорды полились, гармонии полны", которое было написано в 1892 году, последняя - в стихотворении "Как страстно я любил", относящемся к 1895 году.
Именно под влиянием Бунина у Василевского проявляется интерес к украинской тематике. Он переводит стихи Б.Гринченко, М.Старицкого. А когда в мае 1892 года в Полтаве выступала известная в то время актриса М.К. Заньковецкая, молодой поэт откликается посвященным ей стихотворением. Видел ее на сцене и Бунин, о чем он впоследствии вспоминал в "Жизни Арсеньева".
В Орле, в Литературном музее имени И.С.Тургенева, хранится одно из писем Василевского, адресованное Бунину. Лев Маркович, посылая в 1908 году Бунину свои стихи для сборника "Земля", так охарактеризовал влияние маститого писателя на свою поэтическую судьбу: "Когда-то, в Полтаве, вы были моим литературным крестным отцом, впервые послав в печать несколько моих стихотворений. С этого времени мне случалось встречаться с вами очень редко, случайно и мельком, но особое, непередаваемое словами отношение к вам как к крестному отцу сохранилось у меня доныне. И оттого моя любовь к вашим стихотворениям овеяна каким-то особым ароматом юности и благодарностью к воспоминаниям".
А годом позже у Бунина увидел свет второй том его "Стихотворений". Василевский в "Речи" откликается на это событие в литературной жизни России рецензией: "Радостно встретить среди этой кучи макулатуры книгу длительного значения, сборник устойчивой красоты".
Совсем недавно на книжном развале у воронежских букинистов мне случайно попался журнальный еженедельник "За 7 дней" за 1912 год. Он издавался в Санкт-Петербурге товариществом "Хронос". На предпоследней странице, где помещена всевозможная реклама, я наткнулся и на такое вот объявление: "Книгоиздательство "Антей". Вышла новая книга: Л.М.Василевский. Стихи. (1902-1911гг.). Обложка худ. К.Евсеева. Ц. 1 р. Склад изд.: Невский, 126, тип. Б.М.Вольфа". Получается, что в 1912 году у Василевского вышел очередной поэтический сборник, своеобразное избранное, написанное за девять предыдущих лет.
И еще - о чудо! - в этом же журнале "За 7 дней" в подборке "Календарь текущей истории" наткнулся на хроникальное сообщение, связанное с Воронежем: "В Гос.Думе приняты законопроекты о преобразовании горного училища в горн. инст. в Екатеринославе и об откр. сел.-хоз. инст. в Воронеже".
Однако вернемся во времена первой русской революции, активным участником которой стал Лев Василевский. Именно в те дни появляются в печати первые его революционные стихи. Их печатают санкт-петербургский большевистский журнал "Наша мысль" и московский партийный журнал "Истина". Имя Василевского становится известным в демократических кругах. Более того, его стихи читают публично, на так называемых утренниках, а некоторые были положены на музыку.
К годовщине Русско-японской войны Василевский пишет стихотворение "Красный смех" и посвящает его писателю Леониду Андрееву. Цензура тут же запрещает его к печати. Но, вопреки запретам, "Красный смех" звучал со многих сцен и трибун.
Вот характерный пример его поэтического творчества - стихотворение "Предельное и беспредельное", относящееся к 1906 году.
Предельна досягаемость
Властительной картечи,
Безмерна изменяемость
Правительственной речи.
Предельна убедительность
Посула и обмана,
Но без границ вместительность
Сановного кармана.
Предельно обаяние
Штыка и пулемета,
Бездонно одичание
"Слуги и патриота".
Предельны дарование
И ум министров рати,
Бескрайни наказания
За смелый тон печати.
Предела нет глумлению,
Поругана свобода,
И нет конца терпению
У русского народа! Через год в социал-демократическом издательстве "Голос" появляется сборник революционной поэзии "В грозу". Чуть позже - еще один , "Набат", который был конфискован полицией, а его составителя, Василевского, арестовывают и отдают под суд.
Все больше и больше имя Льва Василевского приобретало известность, и не только в литературных кругах, но и в артистической среде, у художников. Он водит дружбу с Самуилом Маршаком, Корнеем Чуковским, Тамарой Щепкиной-Куперник, Арк.Буховым, Н.Тэффи, Сашей Черным, Всеволодом Мейерхольдом, Верой Комиссаржевской. Завсегдатай "Кружка молодых" и Литературно-художественного общества, он не раз бывал в Пенатах у Ильи Николаевича Репина, участвовал в знаменитой "Чукоккале" у Корнея Ивановича Чуковского.
Но, будучи врачом, как и Антон Павлович Чехов, он и с медицинской практикой не порывал. До Октябрьского переворота и во время его Василевский работает старшим врачом русского военного госпиталя в Свеаборгской крепости.
Революцию он принимает сразу и безоговорочно, оказывается на Южном фронте, в Воронежской губернии. В наших краях Василевский начинает главным врачом госпиталя войск ВЧК, и только впоследствии приходит в "Воронежскую коммуну". Здесь он начинает работать после того, как из газеты уже ушел поэт Владимир Нарбут, входивший в группу акмеистов, в которой состояли Ахматова и Гумилев, Мандельштам, Зенкевич и Городецкий.
Нарбут, который много писал для газеты - а он являлся одним из соредакторов, - как известно, начал еще издавать и литературный журнал "Сирена". На его страницах появилась и "Декларация" московских имажинистов, и стихи представителей этого, как считал Василевский, формалистического течения - С.Есенина, Р.Ивнева, А.Мариенгофа, В.Шершеневича. Лев Василевский, судя по его публикации "Кафе снобов (Письмо из Москвы)", крайне негативно относился к представителям этого литературного направления.
Читаем: "...У входа столик с имажинистской литературой: так же нелепо, вызывающе броско, но тонко рассчитаны брошюры на "эпатирование", как это было и у футуристов. Но Боже вас сохрани смешать их с футуристами или хотя бы только сравнить с ними: большего оскорбления имажинист не может себе представить... Стержень "кафе" молодой поэт Вадим Шершеневич, даровитый и культурный человек, с которого, я убежден, все это полунарочитое манерничанье, как шелуха, очень скоро и притом бесследно соскочит... И вот Шершеневич читает жующей, перемигивающейся с барышнями, молчащей толпе свой "опыт небольшого романа". В течение свыше часа, то и дело неторопливо и солидно отпивая сахарной воды, автор "эпатирует" свою публику, огорошивает ее неожиданностями".
Как вспоминал сын Василевского, доктор исторических наук Константин Львович Селезнев (Василевский), "отец успевал очень многое. В Воронеже в 1918-1919 годах он создал литературно-художественную газету "Огни", редактировал "Театральное обозрение". По его инициативе Ревком посылает в уезды Воронежской губернии "агитгруппы", в которых участвовали журналисты и актеры".
В это же время Лев Маркович продолжает свою переводческую деятельность. В Воронеже он осуществил перевод пьесы Б.Бьернсона "Тора Парсберг и Пауль Ланге". Тогда же, в боевом девятнадцатом, она и была напечатана.
В двадцать втором году Василевский возвращается в город на Неве, сотрудничает с газетами "Петроградская правда", "Жизнь искусства".
Умер Лев Маркович в 1936 году. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Санкт-Петербурге.
(Продолжение следует).
Источник: газета "Воронежская неделя" N 19 (2160), 07.05.2014г.
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2014
|