 |
16.10.13
Страницы истории. Окопная правда Ивана Федосова
«Я сказал: слава Богу, на сутки остались живы» –
из фронтовых записей сапера Первой мировой войны Александр ВЫСОТИН
С Первой мировой войны сапер, старший унтер-офицер Иван Федосов в свое село Лесное Уколово Воронежской области шел пешком.
И - радовался… Наконец-то на станции Острогожск покинул он надоевший тесный от многолюдства и тяжкий от спертого воздуха вагон.
Скоро увидит жену, детишек, а их было пятеро. Особых подарков им не вез. В полупустом вещевом мешке, который шевелился за спиной в такт быстрым шагам, лежало немного московских пряников в виде фигурок животных и кускового сахара. Все везде было очень дорого, а денег - в обрез, только на дорогу. Не так, как было при демобилизации в тринадцатом году. Тогда, еще унтер-офицером, вез Иван Федосов из Петербурга два небольших, но доверху набитых подарками, и, чудо настоящее! - швейную машинку.
Правда, лежало теперь с теми пряниками и несколькими кусками сахара нечто особое, для себя самого необъяснимо важное - фронтовые записи. Их он вел почти ежедневно, после возвращения группы саперов с задания, выполнение каждого из которых требовало большого телесного напряжения и чаще всего выполняемого под огнем противника. Что побуждало сапера Ивана Федосова, кое-как примостившись в землянке, сделать очередную запись о том, что недавно произошло, тратя время на раздумывание, как точнее изложить о сделанном саперами несколькими предложениями, прежде чем забыться в коротком и тяжком сне? На этот вопрос предельно ясно не ответил бы и сам автор фронтовых записей.
Впрочем, разве это единственный пример, когда человек по какому-то неведомому для него влечению начинает безотчетно заниматься делом, стоящим далеко за пределами сиюминутной практической надобности и потребности, вызывая порой нелестное суждение. Потом потомки будут благодарить такого чудака-человека.
Так сделаем сегодня и мы: вспомним с благодарностью сапера Первой мировой войны, старшего унтер-офицера Ивана Федосова, который по собственной и доброй воле зримо засвидетельствовал "окопную правду" Первой мировой войны, оставив очень ценное свидетельство о том, как наши деды воевали.
Так случилось, что их ратный труд по конъюнктурным политическим и идеологическим причинам в советские времена был низведен до нуля с лукавым объяснением. Мол, о какой благодарной памяти ее участникам можно говорить: ведь Первая мировая война, в которой участвовала Россия, была несправедливой по своему характеру и закончилась она для нас поражением (впрочем, большевики тогда очень желали поражения России и русскому народу).
Теперь вот появилось в России благородное намерение к 100-летию начала Первой мировой войны установить памятник участникам Первой мировой войны. Символически "вмуруем" в него и фронтовые записи Ивана Федосова. Начинаются они лаконично в 1914 году, когда к зиме на Северо-Западном фронте обстановка складывалась не лучшим образом.
Августовский успех 2-й и 1-й армий в Восточной Пруссии (в военной истории она названа как "Восточно-Прусская операция") вынудило немецкое командование усилить свою 8-ю армию двумя корпусами и одной кавалерийской дивизией. Русские войска стали медленно отступать. Они нуждались в пополнении, в том числе и саперами.
Иван Федосов сделал первую запись в своем походном дневнике, скорее всего, чтобы занять время, но внимательно замечая каждую особенность, как, например, их перегрузку в Польше в вагоны суженной колеи: "Из Смоленска командой ехали поездом через Минск, Барановичи, Белосток, проезжали крепость Осовец. На пятый день были на станции Граево, где в 7.00 перегрузились в вагоны суженной Польской ж.-д., а в 9.00 были на ст. Лыки. Город разрушен, безлюден, чистый. Нас подчинили пятому Сибирскому саперному батальону, отправили на передовую.
Через сутки были в расположении 3-й саперной роты" .
1915 год
"01.01. Новый год. В 20 часов нас направили делать насыпи по брустверу траншей и маскировку. Место болотистое, поэтому хода сообщений были мелкие, мы ползли на коленях и локтях. Работали в 40-45 метрах от немецких окопов. Германцы освещали наш передний край прожекторами и обстреливали из пулеметов и винтовок. Под такой страстью проработали всю зимнюю ночь. К рассвету пошли по ходу сообщения на двух ногах в рост. Я сказал: "Слава Богу, на сутки остались живы".
"04.01. В 5 часов вечера снова пошли рыть в мокрые окопы. Немцы работать не давали, и мы вынуждены забрасывать их гранатами. Ночь прошла без урона".
Далее в дневнике, и так будет часто повторяться, обобщенно суммированные записи, по которым можно судить о тяжкой боевой обстановке с ее ожесточенным однообразием нестерпимым: "Так до 27.01. каждую ночь выполняли самую трудную работу под огнем противника, днем вовсе головы нельзя было высунуть".
Но если есть хоть какие-то различимые перемены и особенности, тогда добровольный летописец Первой мировой войны - сапер Иван Федосов вновь берется за карандаш: "27.01. Под такой страстью ставили проволочные заграждения, минировали".
"28.01. Пришли с окопов в 5 часов утра, уставшие, стали заготавливать деревья для завала дороги и рыть траншеи в мерзлом грунте. В 6.00 утра пришла с передовых позиций 10-я рота 31-го Сибирского полка, совместно, до 9 часов вечера выбирали и оборудовали удобные места для обороны. Пехота не имела своих лопат, и мы дали им для расчистки снега. Было ясно: 31-й Сибирский полк отступал".
"29.01. С 4 часов утра с 10-й ротой в арьергарде двигались через деревню У... Там ветряная мельница была ориентиром для артиллеристов противника. По приказу мы ее подорвали. Потом догоняли 10-ю роту".
"01.02. С раннего утра до 9 часов вечера немцы вели ожесточенный бой за д. Станины. Наши несли большие потери. Вечером штаб полка и третья стрелковая рота отступили, а мы, саперы, остались взрывать ж.-д. мост. Пока по мосту проходили наши войска, мы подложили под фермы пироксилин, подсоединили провода к машинке Сименса. Когда наши все прошли, мы крутнули машинку и мост рухнул в воду. К этому времени неприятель подошел к мосту, но мы успели отступить".
Мартовскими дневниковыми записями сапер унтер-офицер Федосов свидетельствует о том, как командование русской армии усиленно укрепляло оборонительные позиции, используя все возможные средства: силы саперов, стрелков, артиллеристов, наемных жителей и австрийских военнопленных.
"03.02. В 2 часа дня прибыли в город Августов - северо-восточная окраина Польши. За Августовом, 6 февраля заночевали в деревнях Малая Зверница и Ольша. Ночью 8 февраля под прикрытием огня 10-й стрелковой роты построили мост через небольшой ручеек".
"04.04. Четвертого апреля по тревоге саперные подразделения были погружены в вагоны и окружным путем, через узловую станцию Алиту, на четвертый день выгружены на ст.Симно. 3-я саперная рота была подчинена 9-му стрелковому корпусу" Потом снова все слилось в жуткое однообразие строительства оборонительных укреплений под непрерывным огнем противника, с постоянно убитыми и ранеными. Даже всегда аккуратный и педантичный сапер Иван Федосов не ведет своих записей, лишь запоминает 17 апреля, когда сам был легко ранен: "С 8 по 26 апреля под огнем противника строили оборонительные укрепления.
Почти каждый день были убитые и раненые. 17 апреля в 18.00 во время прямого попадания снаряда в дом, где отдыхали саперы, были убитые и раненые. Среди них легкое ранение получил и я, но госпитализация не потребовалась".
"26.04. Снова погрузили в вагоны и перевезли до станции Моцово. Обосновались в д.Рудники, южнее на 8 км местечка Колвария. Впереди обороны четыре ночи устанавливали проволочное заграждение в четыре кола. В ночь на 1 мая немцы, освещая ракетами и прожекторами, открыли огонь. Мы вынуждены прекратить работы и вступить в перестрелку".
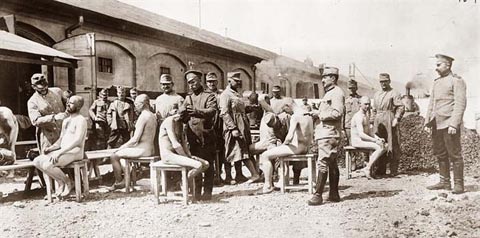
Вот они, будни Первой мировой

В записях сапера очевиден факт - он обязательно оставляет в тетради запись тогда, когда саперная рота в переездах, есть время и возможность заняться дневником. В другой ситуации переходит на краткое обобщение, как это было снова в мае: "2 и 3 мая наши войска перешли в наступление.
До 16 мая ночи были наряженными: рыли хода сообщений, много готовили САПы - глубокие окопчики".
"24.07. На правом фланге шел ураганный бой. Немцы наступали. Наши оказывали упорное сопротивление.
Так было до конца месяца. В эти дни перебазировали лагерь австрийских военнопленных на восток".
"03.08. Третья саперная рота начала подготовку к эвакуации. В ночь на 5 августа с саперным скарбом выехали на 36 подводах. На нашем участке немцы не наступают, а наши удирают. По приказу командира саперной роты я с саперами закопал в окопы 300 пудов колючей проволоки и остальную "мелочь" - скобы, гвозди.
Наступление на нашем участке началось с обеда 6 августа. Ночью личный состав 3-й саперной роты выехал на 17 подводах в Симно. Там сдали на ж.-д. склад шанцевый инструмент, а личному составу приказано прибыть в штаб 9-го стрелкового корпуса в д.Бабинки. Из штабной информации стало известно, что продолжительное время укрепляемый нами участок, на который затратили неисчислимое количество солдатских сил, военнопленных и выплатили наемным 28 тысяч рублей, немцы почти заняли без боя. Саперы отступили с пехотой. У переправы через реку Неман, в местечке ж.-д ст. Алиты, артиллеристы оказали немцам упорное сопротивление. Попытка пехоты с помощью саперов окопаться для обороны успеха не имела".
"11.08. Отступали следом за штабом 9-го стрелкового корпуса в направлении к местечку Ганушишки Виленской губернии. По дороге саперы спевали песни. Пели и играли на гитаре вечером во время остановки на ночлег. В эту ночь я был патрульным. Пели вечером и на очередной ночевке в Ганушишках. И чему веселятся ребята? Ведь горе - отступаем, товарищи гибнут. Может, потому, что идем в сторону своих хижин?" "13.08. При отступлении потерялись обозы с боеприпасами.
На позициях не хватало патронов, снарядов. С самой ночи немцы напористо наступали, строча из пулеметов. 29-й и 30-й полки раздобыли боеприпасы и героически отражали атаки немцев..." "18.08. Вступил в бой 3-й Гвардейский корпус, которому удалось остановить наступление немецких войск".
"20.08. Наша 3-я рота протрассировала строительство новых оборонительных позиций. Но утром прибыли командиры Астраханской дружины, которые без боя сдали немцам крепость в Конво (Каунас), изменили наш план разбивки. На исправление потратили полдня. Во второй половине дня работали под огнем противника. Вечером в воздух поднялся их аэростат. Наша стрельба не повредила ему. По его наблюдательным данным в последующие дни нас метко обстреливала немецкая артиллерия. Мы продолжали работать с "астраханцами". Доски на мост покупали у местных жителей".
"31.08. Роте поручен ремонт 130-верстной дороги по направлению на Минск. До 5 сентября построили гать, отремонтировали и построили 17 мостов. Из-за насыщенности войск в округе мы пять дней питались одними сухариками, местные жители продуктами оскудели".
"05.09. Приказано возвратиться обратно к фронту. Во время погрузки на станции Бабы образовалась скученность обозов: 3-го корпуса разгружались, 9-го корпуса подъехали на погрузку, в том числе и саперные подводы. Начальники обозов стали друг другу угрожать револьверами.
Штабы оказались не способными управлять движением перевозок".
"07.09. Возвратились к боевым позициям. Производили работы в деревне Лентишь. Немцы вели адский огонь. Меня ранило осколком снаряда в левую ногу, задета кость. Я оказался в лазарете на костылях..." "13.09. Воскресенье. Доктор из 400 раненых отобрал нас 140 человек, отправил в Минск, но 15.09 оказались в Могилеве, где размещался штаб Главного командования Русской армией. Вечером в 19 час. 30 мин. нас осматривал Великий князь, Главнокомандующий Николай Николаевич Романов. Он многих наградил, в том числе и меня, медалью "За храбрость".
Эвакопоезд проследовал через Оршу, Смоленск, 18.09 раненые были на Казанском вокзале Москвы. В невоенном покровском распределительном пункте до 24.09 нас кормили по-человечески, более внимательно относились врачи. Затем перевезли в Рязань в лазарет Земского общества".
"04.10. Комиссия записала в команду выздоравливающих. В ней 33 дня читал книги, обучался правописанию, посещал так называемые "учебные занятия" по военному делу, на самом деле прогулки. В соседнее село ходили в церковь. Однажды слушали проповедь священника о предании анафеме графа Толстого".
27 декабря, через 105 дней после ранения, в деревне Зарудичи, в районе Молодчено, фронтовые друзья встретили Ивана Федосова приветственным русским солдатским "Ура!" Для них он был надежным товарищем, умелым сапером. Устроили, конечно, застолье.
1916 год
"Зима выдалась необычно морозной, с обильными метелями и снегопадами. Но и в этих зимних условиях саперы по ночам тянули перед передним краем колючую проволоку, забивали колья в мерзлый грунт.
Немцы, обнаружив русских саперов, открывали бешеную стрельбу. Было много убитых и раненых.
19 января третью роту отправили на переформирование. Пополнили молодыми саперами и подчинили 5-му Сибирскому саперному батальону 15-го инженерного полка 8-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал Ретко".
"Рота расположилась в землянках рядом с деревней Слободки. 5 марта одним полком дивизия успешно атаковала немецкие позиции. Однако на второй день немцы их вернули.
7 марта генерал Ретко наступление повторил. Во всех этих локальных наступающих боях у саперов была "жаркая пора".
"31.03. Перед Пасхой мне присвоили очередное звание - старший унтер-офицер".
"02. 04. В походной церкви хор из 18 человек, в котором и я участвовал, отрепетированный на спевках, в пасхальную ночь пел Всенощное..."
И это лишь малая часть из фронтового дневника сапера Первой мировой войны Ивана Федосова...
Источник: газета "Воронежская неделя" N 42 (2131), 16.10.2013г.
Чтобы оставить комментарий, необходимо или .
Источник: Газета "Коммуна"
[Последние]
[Архив]
© Информсвязь, 2013
|